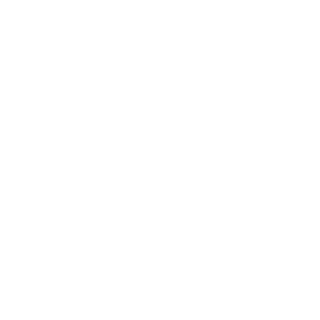Раньше я довольно скептично относился к этой сказке, не распознавая её связь с архетипической историей. Мне было похоже, что история гадкого утёнка — это эмоциональный зонтик для нарцистических и инфантильных травм, где тот, кто занимает место гадкого утёнка ожидает, что рано или поздно с ним случится чудо, и его доселе непризнаный гений будет обелён прекрасными лебедями и унесён подальше от недальновидных бестолковышей.
Недавно я посмотрел на сказку с иной перспективы, когда утёнок до последнего момента даже и не догадывается, что он не-очень-то-и-утёнок, пока не появится тот, кто отразит его, как зеркало. И дальше уже неважно — заберут ли его лебеди в волшебные края, (это как раз инфантильная часть рассказа), или может он вообще пингвин и летать не умеет.
Перед взрослым человеком, который нашёл себя вброшенным в мир, так или иначе ставится задача поиска места для себя, своих людей, признания, принадлежности и увиденности в том, какой он есть по своему устройству. Не имеющие достаточно психических ресурсов люди так и остаются пожизненно сжатыми коллективными установками, но более смелые высовывают голову за пределы родительского гнезда, — благо, в современности такое поведение воспринимается как норма и поощряется, а сам человек получает возможности примерять на себя разные окружения с отличающимися ценностями и настроениями.
В детстве нас учили разделять людей на «хороших» и «плохих», и это знание не подтверждается жизненным опытом. Можно обнаружить, что если конкретного человека вывести из одного пространства и поместить в другое, то беспросветный мудила окажется ранимым душкой. Это как минимум значит, что поведение людей контекстуально и зависит от негласных законов группы. То есть это не столько «хорошая» или «плохая» группа, состоящая из «хороших» или «плохих» людей, а скорее насколько психологичны их негласные законы. Могу ли я быть самим собой и проявляться непосредственно? Чувствую ли я себя свободным, полезным и принятым? Могу ли я раскрываться и развиваться так, как мне правильно?
Тут-то и начинает всплывать феномен гадкого утёнка. Чувствительные люди «на своей шкуре» замечают, что каждая группа собранных вместе людей каким-то образом обрабатывает теневые процессы их участников. В терапевтических группах больше принято уделять внимание скрытым динамикам и возвращать за них ответственность тем, кто их привнёс; в иных, например, трудовых коллективах, больше принято поддерживать неведение («ничего же не случилось») и культуру занятости («это нормальный рабочий конфликт»).
Согласно полевым законам, коллективная тень будет протекать через людей с самыми тонкими энергетическими границами. Тонкие границы — это и дар, и проклятие, поскольку, с одной стороны, они оставляют чувствительных людей наиболее информированными о психическом-полевом состоянии пространства, а, с другой, требуют умений и ресурсов обходиться с дополнительной нагрузкой. Люди с высокой чувствительностью поневоле становятся индикаторами психической гигиены коллектива: им будет без причины хорошо в тёплых дружных сообществах, но они будут вести себя диковато и чересчур эмоционально там, где происходят мрачные подковёрные игры, (и потому будут ошибочно восприниматься как имеющие к ним непосредственное отношение).
Кроме того, поведение чувствительного человека легко интерпретируется как неадекватное с угла обзора других. В силу отсутствия культуры понимания чувствительных людей, и сам человек, и его окружение дружно считают, что это с ним что-то не так, и ему хорошо бы выправить своё поведение, измениться, образумиться, влиться в коллектив или разобраться со своими травмами у психотерапевта. Это и есть место гадкого утёнка.
Такое место крайне нересурсное: во-первых, доступ к «лебединым» способностям заблокирован или даже не распознан; во-вторых, тратится энергия на безнадёжные попытки вписаться в «утиное» коммьюнити; а, в-третьих, позитивная трансформация внутри утиного коммьюнити невозможна, — увиденность существует лишь за его пределами. Поэтому я предлагаю выныривать из мутных сообществ побыстрее. Разрушаться в надежде на распознанность, терпеть или схлопываться в самоанализе — это путь жертвы. Важно позволить нести теневой груз их владельцам или хотя бы тем, кто остаётся в сообществе. Всегда найдётся человек с самыми тонкими границами, кто вынужденно станет проводить через себя динамики других, — и этим человеком не обязаны быть вы.
В свою очередь, нечувствительным владельцам пространств я вовсе не советую прислушиваться к чувствительным людям — вы всё равно не сможете их отличить от тех, кто травмирован и вещает из травмы. Травма мимикрирует под чувствительность, а тонкие границы стоит воспринимать не только как развитый орган, как, например, слух у музыканта или зрение охотника, но и как вероятное следствие повреждений психики.
Я верю, что здравый подход — это уважительно перебирать для себя окружения до тех пор, пока не станет ясно, «какая же вы птица». Чувствительные люди требуют больше увиденности и распознавания, но и могут дать больше качественного внимания другим. Отсюда мне очевидно, что чувствительным людям стоит собираться вместе, и это становится особенно ценным после длинной дороги в мечтах, надеждах, традициях, поисках себя, случайных флуктуациях и прочих разочарованиях — путь гадкого утёнка должен быть пройден и интегрирован для устойчивого согласия с собственной «таковостью».
И добро пожаловать. У нас заклёвывать таких не принято.
22 апреля 2025