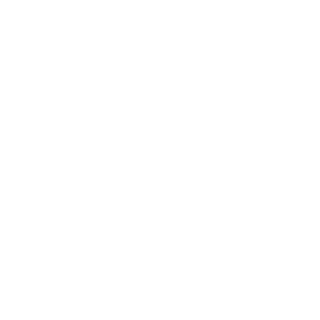И если только у вас не было психологически подкованных родителей, частной школы и собственной башни с драконом, то вы наверняка выросли в мире, где вам регулярно доносили идею, что с вашими чувствами что-то не так.
Начиная от «мальчики не плачут» и «принцесски не какают» до «не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней», в социальном мире принято считать разнообразие психических переживаний чем-то вроде невоспитанности. У якобы нормального человека чувства должны либо отражать сказочное великолепие жизни — вечнопозитивное мышление, лишённое и тени многомерности, или буддийское спокойствие, — либо соответствовать легализованным культурным мифам: романтическая влюблённость, восторг от детишек, уважение к старикам, гордость за спортивную команду, женственность у женщин и мужественность у мужчин.
И поэтому когда заёбанный невписанностью в стандарт человечек доходит до психолога и слышит что-то вроде «каждый сам ответственен за свои чувства», что в быту означает «никто не вправе говорить мне, что я должен чувствовать», то тут же вылезает вся доселе подавленная агрессия. Оказывается, «с моими чувствами всё в порядке — это другие неправы»! В первую очередь огребают родители, которые не согласны распрощаться со своим привилегированным положением только потому, что дитё наслушалось модных теорий. Это время смены окружения, чтения Маршалла Розенберга и охотного участия в срачах ради практики отстаивания истинности собственных чувств.
Всё было бы хорошо, если бы ответственность понималась так, как я когда-то описывал в заметке. Но обычно окрылённый человек ступает на скользкую дорожку следующих утверждений: «не можешь справиться со своими чувствами — это твоя проблема», «то, что ты чувствуешь, не имеет ко мне никакого отношения», «мои чувства про меня, а твои — про тебя» и, наконец, «ты не имеешь права мне предъявлять, если тебе что-то не нравится». Когда диалог принимает такой поворот, я пользуюсь старым трюком материалистов: «плюньте ему в лицо, и пусть справляется со своими чувствами сам».
Поп-психология поставляет идею изолированности чувств людей друг от друга, как будто мы живём в непересекающихся пузырях. Эта идея попадает в огромную культурную боль и потому разносится по миру, как горячие пирожки. Жгучее желание выстроить долгожданную границу с созависимым партнёром, разорвать связи с сосущими соки предками и остановить неуёмные требования начальства — и на всё одна спасительная таблетка «здоровой коммуникации»! Достаточно просветить людей и потребовать вести себя подобающим образом — пусть это начальник сам разбиратся со своим гневом, партнёр — со своей ревностью, а родные — с обидами. А кому не нравится — так они токсичные мудаки значит, и дело с концом.
Так, мы получили поколение людей, неспособных на близость. Философия пузырей предлагает культ оторванности, индивидуалистичности, эмпансипированности. Мы имеем эпоху подкованных литературой селф-хелп интеллектуалов, которым палец в рот не клади на тему личных границ, и которые маются от внутренней пустоты. Телесное распознавание другого как живое рядом бередит травму слияния и воспринимается как откат к созависимости, слабости и беспомощности. Сопереживание близости приводит к психологическому расколу — желанный контакт прерывается памятью боли и обещанием когнитивно «всегда выбирать себя», то есть идею поддерживать свой пузырь чувств непроницаемым и недоступным.
Мы побывали на двух концах спектра. Но мудрость не в том, чтобы найти золотую середину между двумя плохими решениями, — ох уж эта обманчивая позолота срединного пути, сколько наших на ней полегло! — а вернуть в восприятие ту размерность, которая была утрачена на этапе формирования общественного мнения. Можно заметить, что «каждый сам ответственен за свои чувства» на самом деле говорит нам лишь о том, что другие уже обходятся со своими чувствами некоторым способом, который они явно или неявно выбрали. Даже если этот способ — накричать, потребовать, обидеться или манипулировать. И потому это уже нам, читателям, иметь дело со своими чувствами по этому поводу. И может мы захотим — уже осознанно! — воспользоваться такими же методами взамен. А это всё звучит уже не так мечтательно просто, как обещали нам популисты.
Фундаментально важно отделять чувства от их описания — именно этого не хватает в перспективах, критикуемых выше. Альтернативный подход строится на двух взаимодополняющих тезисах:
- Абсолютно все чувства верны.
- Абсолютно все интерпретации чувств неверны.
Первый тезис полагается на следующее наблюдение: сколько чувства не подавляй, они всё равно никуда не денутся. Есть фантазёры от головы, которые считают иначе, но они постучатся в наш лагерь после курса психотерапий и антидепрессантов. Все чувства верны в том смысле, что если они есть, то никак нельзя сказать, что их нет. И настойчивые попытки назвать чёрное белым — сюрприз-сюрприз! — лишь добавят тонкий флёр самонаебательства.
Другое наблюдение, которое особенно хорошо понимают любовники, — что чувства не индивидуалистичны, а скорее синхронистичны и взаимопроникающи. Сейчас лучшее объяснение этому — зеркальные нейроны, но я думаю, что есть более тонкие механизмы. Суть сводится к тому, что людям свойственно чувствовать буквально одно и то же, даже если отличаются воспринимаемая интенсивность, фокус и окраска. Другими словами, чувства буквально одни на всех, и каждый вносит что-то своё своим присутствием. Это как если бы в комнату вошёл человек с красной лампочкой на лбу: меня бы, допустим, это раздражало, кто-то другой нашёл бы это игривым, а самому владельцу лампочки с этим жить (и думать, что у всех людей вблизи лица красные).
Бороться с чувствами так же глупо, как и со своей левой ногой. Консенсусы на этом уровне невозможны: если у меня болит голова от громкой музыки, то поможет только снижение громкости, — и неважно, люблю я сам этого исполнителя или нет. Чувства — это не что-то опциональное, что можно попросить подождать за дверью.
Второй тезис предлагает неконфликтно находиться с другими в языковом пространстве. Во-первых, больше незачем настаивать, что «я прав, а ты неправ», потому что, в силу первого тезиса, ситуацию это не поменяет. Во-вторых, это снимает стресс и отменяет задачу владения пониманием собственных чувств: «да, я что-то чувствую, и да, я пока не могу объяснить, что именно» становится нормальным ответом. В-третьих, наконец-то можно дать собеседнику высказаться без угрозы утратить свою правду. А высказаться — это важно; это принципиальная часть интеграции и переработки психических процессов. Иногда собеседнику достаточно высказаться, чтобы успокоиться и перестать настаивать на своём. В-четвёртых, это легализует позицию в духе: «твои доводы звучат разумнее моих, но следование своим чувствам мне важнее». По опыту, собеседник, обнаружив, что не может меня продавить, оказывается вынужден отказаться от гонки вооружений аргументами. С некоторыми это автоматически конвертирует диалог из баталий за несение истины в уважительное соприсутствие. В-пятых, — и это может показаться неожиданным, — с какой стати я должен верить в то, как другой описывает свои чувства? Неужели только потому, что дано описание от первого лица? Я встречал такие интерпретации, от которых глаз дёргается. А если вы не встречали лично, подумайте о латентных гомосексуалистах.
Неожиданное преимущество предложенной перспективы в том, что она берёт лучшее из старых миров: с одной стороны, сохраняется эмпатическая и эмоциональная проницаемость, а, с другой, собственные границы защищены от безудержного лингвистического и интеллектуального вмешательства. С одной стороны, тот, кто в моменте чувствует больше, может больше назвать вслух, не боясь быть прерванным за крамолу или наоборот, занять святое место Прометея; а, с другой, взаимоотношения остаются предельно симметричными, поскольку тезисы одинаково и безусловно распространяются на всех участников контакта. Пользуйтесь на здоровье!
21 сентября 2025